Александр Бабаян
«Воспоминания о селе, предках и семье» (печатается с сокращениями)

Я родился в 1930 году. Детство моё и ранняя юность прошли в деревне, и с этим периодом жизни связаны мои самые яркие воспоминания. Родители часто рассказывали нам, детям, о своих отцах и дедах. Я с удовольствием сейчас вспоминаю эти далёкие времена и их увлекательные рассказы. В них неизменно присутствовали свойственные родителям юмор, теплота и благоговение перед предками; но как думаю, они прежде всего руководствовались желанием привить нам с ранних лет уважение к своей истории и корням. Размышляя сегодня над этим, я не устаю восхищаться мудростью родителей, и одновременно отдаю должное прозорливости такого метода воспитания детей. Знание истории своего рода и почитание старших духовно соединяет друг с другом поколения, и укрепляет семейные и родственные связи. Передавая генеалогическую инфомацию детям, мы положительно влияем на потомков, обогащаем их внутренний мир, делаем их во всех отношениях лучше.
В моём повествовании возможны ошибки, так как восстанавливаю я многое по памяти и по рассказам родителей. Отец мой был хорошим рассказчиком; и мама тоже обладала живой памятью и умела передавать события прошлого ярко и занимательно. К сожалению, многое из переданного ими сегодня забыто или вспоминается с трудом. Некоторые подробности и даты нуждаются в уточнении, но к сожалению, уточнить их уже не с кем: из взрослого поколения нашей семьи я один остался в живых.
Историю нашего рода мой отец начинал со своего деда (моего прадеда), которого называл Заргяр-баба. Настояшее его имя неизвестно; а слово «Заргяр» в переводе с персидского означает «ювелир». О предках Заргяра также ничего достоверно неизвестно. По одной версии, он происходил из рода утикских или арцахских князей (чем отчасти можно объяснить близкое к карабахскому диалекту наречие армян Кельбенда); по другим сведениям, предки его были автохтонными жителями наших краёв.
Интересно, что никаким «ювелиром» Заргяр-баба не был; такое прозвище ему дали потому что он был мастером на все руки. Был весьма трудолюбив, не чурался никакой работы, и исполнял всё и всегда исключительно точно: от тяжёлых полевых работ до ремонта часов и прочих мелких деталей. Самым поразительным было то, что Заргяр-баба прожил 130 лет. Этот факт достоверно подтверждал отец и другие наши родственники, которые застали его живым. Бог одарил Заргяра поистине могучим здоровьем; достигнув уже 90-летия, он всё равно не прекращал заниматься тяжёлым физическим трудом. А в самые последние, уже немощные годы, когда Заргяр не мог ходить, он не успокаивался и требовал работу, какую мог бы выполнять сидя. Подчиняясь требованиям неугомонного патриарха, домашние часто подавали ему хнеци – глиняный кувшин для сбивания масла, которое образуется путем длительного взбалтывания мацуна. Вот так и сидел родоначальник за столом, часами тряся старческими руками увесистый кувшин. Как-то однажды в ответ на уговоры кого-то из домаших «поберечь кости» отвечал иронически в том духе, что «от целых костей в могиле никакого проку не будет, лучше я их здесь для пользы дела переломаю».
У Заргяра было 11 детей: семь сыновей и четыре дочери. Вот имена сыновей Заргяра: Аби, Меки, Алаверди (Аствацатур), Нерсес, Асатур, Алексан, и Джавад. Дочерей звали Ханум, Такуи, Парандзем и Мариам. Как видим, некоторые из имён (Алаверди, Джавад , Ханум) имеют персидское или тюркское происхождение. Объяснение тому – распространенноё тогда среди армян поверье об удаче, которую якобы может принести ребёнку имя, популярное у враждебно настроенных соседей.
По рассчетам отца, Заргяру должно было быть около 70 лет, когда родился его младший сын Джавад. Рождение моего деда Алаверди приходится примерно к 60-летию Заргяра. Интересно, что и сам я родился, когда моему отцу Кеворку был 61 год. На этом фоне недавнее рождение моего младшего внука Мишки, когда моему сыну Юрию исполнилось 54, выглядит уже совсем обычным делом. В подобном относительно позднем отцовстве нет ничего удивительного для многодетных армянских семей, и для нашего рода в частности.
Для каждого из сыновей Заргяр-баба годами строил по дому в один ряд на склоне горы, где он и его люди предварительно выровняли и подготовили огромную площадь. Прошли годы, сыновья обзавелись семьями и жили уже каждый в своём доме, но хозяйство вели вместе и доходы от урожая у них были общие. Сам Заргяр жил в доме моего будущего деда Аствацатура, которого называли Алаверди (Богом данный).
По поводу происхождения названия деревни Кельбенд существует несколько версий, но ни одну из них нельзя назвать исторически достоверной. Самой распространённой является наверное, версия о застрявших буйволах. Через нашу деревню пролегал кратчайший путь к соседним тюркским селениям, куда на повозках везли зерно. В качестве тягловых животных использовали буйволов, которых в наших краях было особенно много. Недалеко от дороги находилось небольшое озеро с вязким глиняным дном. В жаркую погоду буйволы рвались к воде и часто застревали, отсюда якобы и пошло название села (кел – буйвол, бенд – застрял).
Но Заргяр-баба с сыновьями жили вначале не в собственно Кельбенде, а в Еришене, – чуть выше нынешнего Кельбенда. В Еришене располагались также и дома некоторых жителей, старая церквушка и кладбище. Еришен существовал примерно до 1918 г. когда был разрушен во время войны и в нём иссяк местный ручей, снабжавший деревню водой. Люди стали постепенно перебираться в низину. Здесь били несколько холодных родников, и протекала мелководная река Чайлях, которая при весенних паводках несла много камней и деревьев, используемых сельчанами в качестве строительного материала. Большинство домов в деревне возводились из речных камней и раствора глины с соломой – подобный способ постройки и по сей день считается экологически наиболее чистым.
Заргяр первым в окрестностях разбил огромный виноградный сад, и огородил его забором из колючих кустарников (чапар). Когда сад начал давать урожай, Заргяр объявил жителям села, что оставляет вход открытым для всех, но с одним условием: запирать за собой ворота, чтобы охранять от скота. С этой целью в ручки распашных ворот были вставлены вилы Заргяра, символизировавшие одновременно его собственность и гостеприимство.
Сохранились в моей памяти рассказы о повадках патриарха и его внешности. Величавый и сильный, коренастый и плотный, на первый взгляд суровый и даже грозный, он обладал беспрекословным авторитетом среди окружающих. Несмотря на образ жизни земледельца, имел привычку повелевать, и не терпел возражений, – что возможно, подтверждает версию о происхождении его родителей из рода карабахских меликов. Просыпался на рассвете, выпивал пиалу топлёного масла, брал кирку и топор, и уходил корчевать поля к северу от деревни, где земля была особенно плодородной. Через несколько часов одна из невесток несла ему в поле завтрак. Шестеро сыновей как правило, работали вместе с отцом, но старший, Меки, частенько оставался дома присмотреть за хозяйством.

Текли годы, рождались дети. Братья жили в основном, дружно; их семейное сообщество походило на большое братство. Рассказывая о сыновьях Заргяра, отец почему-то прибавлял к их именам выражение «Пити Апер»: Пити Апер Аби, Пити Апер Меки, Пити Апер Нерсес, и т.д. – т.е. Младший Брат Аби, Младший Брат Меки, Младший Брат Нерсес… До сих пор не понимаю этого, но полагаю, что таким образом для младшего поколения устанавливалась какая-то негласная иерархия «Братьев», где «Старшим Братом» являлся сам Заргяр-баба. Вместе с тем, приставку Пити иногда прибавляли и по отношению к женщинам. Например, Пити Нана (Маленькая Мама) – так все мы называли жену Меки, хотя настояшее имя её было Салати. Мне довелось видеть её и общаться с ней, так как она дожила аж до 1950 г. и умерла в нашем отцовском доме в возрасте 106 лет.
Мой дед Алаверди по характеру разительно отличался от остальных братьев. Он был весьма набожным, и обладал поистине незаурядным терпением. Утро начинал с молитвы, долго благодарил за всё Бога, просил хранить от всякого зла, искушений и ссор. По какой-то причине, именно в доме Алаверди жил Заргяр-баба, и это, конечно, было не случайно. О миролюбии, спокойствии и невозмутимости Алаверди ходили легенды. Доходило до того, что жители села порой заключали между собой пари и нарочно совершали мелкие пакости, пытаясь вывести из равновесия Алаверди. Они пускались во все тяжкие, но получали в ответ лишь улыбки и благословения. Односельчанин Егор додумался до того, что перекрыл русло реки и направил воду в поле в момент, когда Алаверди поливал свой виноградный сад. Дед направился к нему, чтобы выяснить в чём проблема.
– День добрый Егор! Разве сегодня не мой черёд для поливки?
– Может и твой, – отвечал Егор, – но мне нужно сейчас полить вот эти кустарники на поле.
– Зачем? – удивился простодушный Алаверди.
– Не твоё дело! Хочу так! Мои сорняки повкуснее твоего винограда будут!
Мало кто в деревне осмелился бы говорить в таком тоне с сыном самого Заргяра-бабы. Патриарха уважали и побаивались, даже когда ему уже перевалило за 80. Но невозмутимый Алаверди, верный привычке пресекать ссоры в зародыше, в ответ на хамство соседа лишь усмехнулся и осенил его крестным знамением.
– Ладно Егор, храни тебя Господь. Закончишь поливать свои колючки, вспомни обо мне и поменяй русло.
Егор с того дня неизменно отзывался об Алаверди с неприкрытым восхищением.
Жену Алаверди (мою бабушку) звали Сандухт. В 1864 г. у них родился первенец, Грикор. А спустя ещё пять лет, в 1869 г., на свет появился мой отец, Кеворк. После этого в семье родились две девочки: Шогик (1871 г.) и Ханум (1873 г.). Мой отец был очень привязан к старшему брату Грикору; они не расставались и после того, как выросли и обзавелись собственными семьями.
Истекал 19-ый век, и наступал страшный 20-й, которому суждено будет стать самым кровавым в истории человечества. Но ничто в конце века не предвещало грядущих страданий и потрясений; жизнь в деревне текла как обычно. Грикор уже несколько лет как был женат на красавице Варшак, которую мы позже, много лет спустя, будем называть Варшак-мама. А вот отец мой Кеворк с созданием семьи не торопился. Ему вот-вот должно было стукнуть 30 – традиционный возраст женитьбы армянских мужчин, а он всё высматривал себе невест. Неизвестно, на сколько лет растянулся бы этот поиск, пока однажды не лопнуло терпение даже у ангела Алаверди. Взяв решение проблемы в свои руки, Алаверди быстро подыскал сыну невесту, объявил свою волю и приказал немедленно готовиться к обручению. Невестой оказалась Шушаник, младшая дочь односельчанина Айрапета, с которым Алаверди был дружен с юных лет. Друзья, как это было принято, посидели-поговорили и решили породниться.
Свадьбу пышно сыграли осенью 1899 года. Вся деревня весело пировала во дворе Алаверди. Во главе праздничного стола восседал 120-летний Заргяр-баба. Он уже ослаб зрением и прищурившись, разглядывал танцоров, плясавших под зажигательную музыку. Главным музыкантом был не кто иной как отец невесты – мой будущий дедушка Айрапет. Он виртуозно играл на зурне и дудуке; а его младший брат – весельчак и балагур Карапет аккомпанировал на барабане. Карапет по совместительству был также искусным жонглёром и веселил народ своими трюками. Иногда он срывал с головы какого-нибудь гостя папаху прямо во время игры на барабане, ловко подбрасывал папаху в воздух и ловил её; а затем возвращал на голову гостя, не прекращая при этом бить в свой барабан.
Жених (мой будущий отец Кеворк), сидел по правую руку от своего деда Заргяра-бабы. После каждого тоста родоначальник всё ещё крепкой рукой притягивал к себе внука и смачно целовал в лоб. Невеста (моя будущая мать Шушан) рядом с женихом не сидела, и вообще отсутствовала за столом. Она во время собственной свадьбы играла с подружками, наблюдала за танцами, и не расставалась со своей любимой тряпочной куклой. Шушан недавно исполнилось 14 лет.
Хотя Шушан после свадьбы переехала в дом мужа, жить вместе им разрешили лишь через 3 года, когда она достигла 17-летия. К этому времени Кеворк вместе с братом Грикором начали строить большой новый 2-этажный дом, и завершив строительство, перехали туда со своими семьями. В 1905 году Шушан родила дочь, мою старшую сестру Лизу (Лиза-биби).
Отец в Лизе души не чаял. С самых малых её лет он был о ней очень высокого мнения. Однажды за застольем сосед, подшучивая над каким-то односельчанином, у которого родилась третья дочь подряд, назвал его «бракоделом». В ответ отец возразил:
– Ну и что? Вот у меня тоже родилась дочь… но моя Лиза семерых сыновей стоит!

О замечательных качествах моей старшей сестры я ещё успею рассказать. Но конечно отец, как все армянские мужчины, мечтал о сыне. В следующие 9 лет после рождения Лизы в семье родились два мальчика и три девочки, но все они умерли в младенческом возрасте. В крае свирепствовала эпидемия тифа, которая буквально косила детей. Наша семья погрузилась в печаль, которой казалось, не было конца.
В окружающем мире также назревали трагические события. В 1914 г. разразилась война. Отца мобилизовали на фронт всего через несколько месяцев после долгожданного рождения сына Абрама (Абрам-дя). Хвала Богу, этот мальчик был здоров, хотя эпидемии к тому времени не прекращались.
Первую Мировую Войну историки не зря иногда называют «забытой». В советское время о ней вспоминали редко; она находилась как бы в тени других грандиозных событий, хотя по масштабам кровопролития, разрушений и человеческих страданий у этой войны не было аналогов в предыдущей истории. Рушились империи, совершался геноцид, народы уничтожали друг друга. Ушёл на фронт мой отец, но я ничего не знаю о том, где он воевал, в какой армии и на каких фронтах… При мне отец вспоминал ту «забытую» войну редко; в памяти моей запечатлелся унылый дождливый вечер, кажется в 1942 году, когда в разгаре была уже следующая мировая катастрофа. Наш дом тогда опустел: призвали на фронт трёх моих старших братьев. Я сидел рядом с мамой возле печи и слушал, как постаревший от переживаний и тяжёлых предчувствий отец рассказывал об ужасах той далёкой, первой войны. Он был уверен, что Бог по крайней мере дважды спас ему жизнь. Оба случая были связаны с отступлением частей, в которых служил отец.
– Мы бежали по голому полю, где негде было укрыться, – вспоминал отец. – Вокруг свистели пули и взрывались снаряды, падали убитые… много убитых… смерть, кругом смерть… Кровь, стоны, сплошной кошмар… Когда я наконец добрался до укрытия, шинель моя была в дырках от пуль, но ощупывая себя, я не заметил ничего кроме нескольких царапин. Пришло убеждение, что Бог сохранил меня.
Второй случай, рассказанный отцом, тоже помню смутно. Отступление, бегство с какого-то вокзала, преследование врага, уходящий поезд, на котором спасались остатки разгромленного батальона… Отец подоспел к поезду в последний момент, когда тот уже набирал скорость, схватился руками за поручни, но никак не мог забраться на подножку, силы оставляли его…
– Я уже прощался с жизнью, – расказывал отец, – и громко, в полнейшем отчаянии завопил «Тэр Аствац!»… и тут словно какая-то неведомая сила буквально подбросила меня на подножку поезда! Чудо! Бог снова спас меня!
Другие рассказы отца о Первой Мировой Войне были в основном, связаны с его двоюродным братом Самвелом Бабаяном, внуком Заргяр-бабы. Высокий и бравый, с чёрными аристократическими усами, Самвел был легендарной личностью, человеком не только воинственным, но и глубоко образованным. Он знал и наизусть цитировал стихи патриотических армянских поэтов, и особенно любил читать эпос «Давид Сасунский», декламируя как актёр и сопровождая чтение выразительной жестикуляцией.
На войне Самвел служил кавалеристом. Он вернулся домой на своём неразлучном белом коне, верность которого воспевал в своих рассказах. Однажды Самвел был ранен на поле боя, и пролежал три дня на сырой и холодной земле. Выжил он благодарю коню, который не покидал его, дышал ему в лицо и согревал своим дыханием. В другой раз, конь каким-то чудом вынес Самвела из окружения врага.
По окончании войны, когда отряд Самвела переправлялся в Константинополь, коня, несмотря на долгие уговоры, не пускали на пароход. Настала пора прощаться с преданным другом. Самвел рассказывал, как плача, долго смотрел в глаза коню, – и тот тоже не отводил глаз от своего хозяина. Когда убрали трап и корабль уже начал отчаливать, произошло чудо. Конь вдруг громко заржал, вырвался из рук державшего его на причале человека, и с разгону совершил невероятный прыжок на палубу, битком забитую людьми. На корабле поднялся переполох, все наблюдавшие эту сцену были в шоке… но в итоге капитан корабля был расстроган и разрешил Самвелу оставить необыкновенного коня на судне.
Вернувшись с войны, Самвел взял в жёны Анну, девушку из Ванашена (впоследствии Анна-биби). Но к несчастью, детей у них не было; они даже обращались к моим родителям с просьбой усыновить моих братьев-близнецов Сурена и Шурку. Супруги впоследствии полностью посвятили себя местной школе: не только преподавали, но также и работали в свободное от учёбы время. Анна убирала помещение, а Самвел был сторожем. Умер дядя Самвел в 1936 г. когда мне было 6 лет. Я хорошо помню его похороны, и массивный надгробный камень, который заказал и привёз из Умурвана мой отец.
Когда родители и другие сельчане ещё жили в Еришене, в деревушке находилась старая церковь. Священником служил Петрос (отец моего будущего тестя Вартана-даи), – красивый, благородный человек. По воскресеньям проходили богослужения, а в церковном дворе крестьяне совершали «матах» – обряд традиционного благотворительного жертвоприношения. Но в годы военного хаоса, бесчисленных политических пожаров, армяно-татарской резни, нападений мусульман на деревню, церковь была разрушена, а сам Петрос убит при загадочных обстоятельствах. Ближайшая церковь в округе находилась теперь в соседнем селе Кешхурт. Кстати, священником там какое-то время служил муж моей тётушки Софии (Софи-биби – старшая сестра моей матери Шушан). Но и в Кешхурте сразу после победы большевиков церковь была обращена в хлев. В народе рассказывали, что нечестивец, дерзнувший сорвать крест с купола, сразу на месте и ослеп.

Еришен в годы войны и краха империи совершенно опустел. Уже ушли в вечность Заргяр-баба и дед Алаверди. Многие боеспособные мужчины отсутствовали, находясь на войне или погибли. Старики, женщины и дети, беззащитные перед шайками грабителей и разбойников всех мастей, были вынуждены спасаться бегством. В числе других был ограблен и дотла сожжён недавно построенный Грикором и Кеворком дом. Сам Грикор давно перебрался с семьёй в Баку, где был убит, кажется, во время турецкого нападения на город. Варшак-мама осталась одна с пятью детьми; но войну и болезни пережил лишь один из них, – Сетрак Григорьевич. Однако характером Сетрак отличался столь тяжёлым, что Варшак-мама на протяжении всей своей жизни сетовала на судьбу: «Один ребёнок остался, да и то такой». Сетрак отличался редкой скупостью и капризностью, и наотрез отказывался жениться, несмотря на слёзные уговоры матери. Он так и проживёт всю жизнь холостяком, и умрёт в середине восьмидесятых, прекратив род Грикора.
Когда в советизированном крае, ставшем частью Азербайджанской республики, постепенно стал воцаряться мир, – люди начали перебираться в низину, в Кельбенд, где строили новые жилища. Сразу по возвращении с войны затеял строительство нового дома и отец. Героический неутомимый труженик, он взялся железной рукой за восстановление прежней разрушенной жизни. Трудился без устали, воздвигая дом и сады. Сегодня невозможно даже представить себе объём ответственности и забот, которые отец нёс на своих плечах. Начав практически с полного нуля, лет через десять он станет одним из самых зажиточных жителей села.
Несмотря на то, что в деревне не было теперь церкви, некоторые семьи имели так называемые «сорп» – святые места. В этих местах вместо церковного двора теперь и совершались жертвоприношения. Жертвенное мясо (в основном петуха, или ягнёнка) раздавалось семи семьям. Всего в деревне было четыре таких места, и одно из них принадлежало роду Заргяранц. Решение в каком именно «сорп» проводить обряд, определялось специальным жребием. Помню как мама проводила эту странную процедуру с помощью ваты, деревянных ложек и посуды с водой. Она скручивала вату наподобие верёвки длиной в 10-15 см и накладывала на четыре ложки, укладывая их затем на тарелки с водой; при этом каждая ложка символизировала собою одно из четырёх святых мест. Мама затем читала короткую молитву, и несколько минут спустя разворачивала вату. Ложка которая «правильно» освобождалась от ваты, указывала на верный «сорп».
Хотя обряд «матаха» некоторыми христианами считается языческим, он общепринят у армян, ведёт своё начало от самого Григория Просветителя, и проводится с одобрения Апостольской Церкви, которая объявляет главным смыслом действа благотворительность и благодарность Богу. Добавлю при этом, что вышеописанный «жребий», который проводила моя мама, является, конечно, чисто народным творчеством.

После войны мать родила ещё двоих детей, но новая вспышка эпидемии тифа унесла и эти хрупкие создания. Только в 1923 г. родился здоровый сын Погос. А через два года, в 1925-м, ещё пара близнецов: Сурен и Шурка. Но и Сурен, тяжело заболев, умер, не достигнув 2-х летнего возраста. На этом череда детских смертей в нашем роду прекратилась. В 1928-м году родилась моя сестра Ханум, и ещё через два года появился на свет я, последний из детей. Таким образом, окончательно сформировался состав нашей семьи. Из 14 маленьких детей порог детства преодолеть было суждено лишь шестерым: Лизе, Абраму, Погосу, Шурке, Ханум и мне.
В 1921 г. юную Лизу выдали замуж за Мартироса Ходжабекяна (Мартирос-даи) из соседнего села Ванашен. Мартирос был приветливым и добрым человеком, склонным к предпринимательству и коммерции. Они с Лизой уехали в Баку, где Мартирос стал быстро продвигаться по торговой линии. В дальнейшем он занимал видные должности, в частности, стал начальником ТоргМорТранса. У молодой семьи вскоре родились три сына: Вачик, Миша и Вова. Интересно, что и сам Мартирос был в своей семье одним из трёх братьев, – и как рассказывала затем Лиза-биби, каждый из её сыновей не только внешностью, но и характером весьма походил на одного из этих братьев.

После десятилетия мира жизнь в Кельбенде стала обустраиваться. Отец мой Кеворк был воплощением трудолюбия, и преуспевал во всём за что брался. Мы теперь жили богато; возможно, богаче чем все остальные сельчане. Несколько буйволов, пара коров, лошадь, бараны, козы, индюшки, куры, гуси, и пчёлы – более 60 пасек. Пшеничное поле. Четыре больших виноградных сада… Но наша зажиточность таила в себе новую угрозу. Советское правительство приняло решение о коллективизации, и индивидуальные крестьянские хозяйства должны были быть ликвидированы. Директивы Кремля топорно внедряли и в Закавказье, с полным игнорированием местных и национальных особенностей. В начале 30-х началась массовая принудительная колективизация с целью уничтожения богатых крестьян-хозяйственников, которых тупо называли «кулаками». Понятно, что первым в списке «кулаков» нашей деревни оказался Кеворк Бабаян… В ряды «врагов народа» был также зачислен Аршак из рода Сыранац, такой же преуспевающий труженик-хозяйственник, каким был мой отец.
Отец тогда спасся чудом. Его двоюродный брат Атанэс работал полномочным представителем Совмина в нашем районе. Когда списки по деревням предъявили на утверждение, ему удалось вычеркнуть фамилию отца. Но односельчанин Аршак, к несчастью, остался в списке, и был репрессирован – сослан то ли в Казахстан, то ли в Сибирь, где и погиб.
В результате «раскулачивания» отцу пришлось расстаться со значительным числом скота и земельными угодьями; он теперь работал звеновым колхозных садов. Отец обожал возиться с растениями и деревьями (уход, обрезка, прививки, и т.д.). Он был искуссным садоводом, и вне всякого сомнения, моя последующая тяга к садоводству – проистекает от него. Наш огромный дворовый сад походил на фруктовый лес: здесь, помимо могучих вековых тутовников и грецких орехов, росли всевозможные фруктовые деревья, неповторимый вкус плодов которых до сих пор вызывает щемящую ностальгию. Несколько сортов сочных яблок, вкуснейшие груши, вишни, персики, гранаты, инжир, алыча…
Помню, как мы, дети, не могли дождаться прихода отца с работы. Хотя внешне он выглядел строгим, но сильно любил детей и никогда не наказывал нас за шалости. Авторитет отца был безусловным: нам всегда достаточно было одного его взгляда. На стене прихожей возле лестницы грозно висел здоровенный кнут (хрмач). Хотя он никогда отцом не применялся, мы всё равно с опаской косились на него. Открывая ворота, отец имел обыкновение слегка покашливать, как бы подавая всем сигнал, что хозяин вернулся. Дом приходил в лёгкое волнение. Отец слыл большим шутником, обладал тонким чувством юмора.
С начала 30-х и вплоть до войны в нашем доме жил Манучар – сын двоюродного брата мамы. Родители его умерли, и он остался один. Отец взял его к себе, фактически усыновив его. Манучар был ровесником моего брата Абрама – и на 16 лет старше меня. Они с Абрамом были неразлучны. Мы, младшие дети (Погос, Шурка, Ханум, я), тоже сильно любили Манучара, и долгое время даже не подозревали, что он не является нашим родным братом.

Абрам и Манучар женились оба в 1936 г., почти одновременно: Абрам на Манушак, а Манучар – на Кнарик. У Абрама до войны родились сын Илюша и дочь Нелли. Жёны друзей-братьев дружили между собой так же как и их мужья, и любили отца Кеворка. Каждый вечер, когда отец возвращался с работы, и кашлял согласно своей привычке, у ворот, – обе красавицы-невестки суетливо спешили приготовить ведро с тёплой водой, чтобы помыть отцу ноги.
Мне было лет 6 или 7, и я называл 22-летнего Манучара «Манучар-дя», – точно так же как и брата Абрама, называл «Абрам-дя». Помню, как в те годы Манучар часто играл со мной, придумывая какую-нибудь весёлую игру с условием: типа, проигравший должен проскакать по всему нашему огромному двору на одной ноге. Ему нравилось наблюдать как я старательно скачу, и если я случайно касался земли второй ногой, требовал начать сначала. Мама ругала Манучара: «Издеваешься над ребёнком!», а он хохотал, и разводя руками, оправдывался: «Я не виноват, всё по-честному, он проиграл…»…
В том же 1936 г. умерла бабушка Такуи, мать моей матери Шушан. Она тоже до последних дней жила в нашем доме, и я помню как она вечно сидела на дворе под солнцем и стегала шерсть длинным прутом (чпат). Мы с сестрой Ханум играли во дворе, и я часто обижал её хотя Ханум была на два года старше меня. По этой причине бабушка Такуи всё норовила огреть меня своим прутом, так как Ханум была её любимицей.
В последние предвоеные годы жизнь в деревне протекала достаточно весело. Молодёжь регулярно собиралась по вечерам, кутили, устраивали пляски. Парни большими компаниями уходили в лес, или в виноградные сады; закалывали барашка и жарили шашлыки. Вспомнил в связи с этим трагикомический эпизод, как Артун, сын нашего соседа Сетрака, – у которого было 13 овец, – тайком от своего отца утащил на одну из таких пирушек жирного чёрного барашка из собственного двора.
Вскоре Сетрак хватился своего любимого чёрного барана и нигде не мог его найти. Он начал расследование, и подозревал в краже одного сельчанина, склонного к воровству. Сельчанин, однако, доказал свою невиновность, и издевательски порекомендовал Сетраку осведомиться о пропаже у собственного сына. Пристыжённый Сетрак всё понял, устроил дома громкий скандал, и Артуну даже пришлось спасаться бегством.
Однако злоключения Сетрака ещё были впереди. На следующее утро, отправившись к хлеву, чтобы самолично пересчитать двенадцать оставшихся овец, он обратил внимание на подозрительную тишину. Обычно овцы при его появлении суетились и рвались наружу, а сейчас их совсем не было слышно. Отворив двери хлева, Сетрак с ужасом увидел туши своих мёртвых овец, которые почему-то кучами лежали друг на друге. Из дальнего угла загона словно два маленьких прожектора, сияли волчьи глаза. Захлопнув дверь, ошеломлённый Сетрак побежал к нам просить у отца Кеворка ружьё, – так как у него самого никакого оружия не имелось.
Оказывается, ночью волк прокрался к хлеву Сетрака с северной стороны дома, где кровля была почти на уровне земли, и проделав в ней дыру, прыгнул вниз на несчастных овец. Покончив со всей дюжиной, волк попытался выбраться наружу, но не тут-то было: отверстие в крыше находилось слишком высоко от земли. Изобретательный хищник в отчаянии принялся сооружать гору из туш своих жертв, но несмотря на все старания, так и не смог допрыгнуть до крыши.
Застрелив волка из нашего ружья, Сетрак выгреб из хлева туши мёртвых овец, и стоял, поникнув головой, в окружении охавших и ахавших соседей, собравшихся поглазеть на такое зрелище. Тут в самый неудобный момент появился непутёвый сын Артун, который был навеселе. Он праздно поинтересовался у отца в чём дело. Сетрак мрачно молчал.
– Ну, чего молчишь? – спросил Артун. – Вчера из-за одного несчастного чёрного барана шум поднял на всю деревню, а сегодня молчишь…
Здесь Сетрак взорвался и схватил дубинку, Артуну пришлось вновь давать стрекача.

В самом конце 30-х мой брат Погос уехал учиться в Баку, и приезжал в Кельбенд лишь летом. Погос олицетворял собою доброту, щедрость и физическую силу. Он всегда привозил мне и Ханум из Баку какие-нибудь гостинцы или подарки; а будучи в деревне, однажды поймал для меня зайца. Запомнился эпизод, когда Погос помогал отцу с заготовкой сена на зиму. В дальней части двора у нас стоял огромный, в два человеческих роста стог сена; отец с Вачиком Ходжабекяном стоя на нём укладывали сено, а Погос подавал снизу. Подбрасывать сено на такую высоту не каждому было под силу, но крепкий Погос выполнял эту работу в таком высоком темпе, что отец с Вачиком вдвоём не успевали за ним, и вскоре Вачик (который часто избегал физического труда) запросил пощады.
Другой мой брат Шурка, красавец с густо вьющейся шевелюрой чёрных волос, окончив среднюю школу с отличием, остался работать в ней преподавателем. Шурка увлекался художественной литературой и сам писал лирические стихи. Он был без сомнения, самой талантливой личностью в нашем роду, имел многогранные способности, и обладал познаниями также и в медицине. Я думаю, не случись войны, Шурка достиг бы в жизни больших успехов.
Но война грянула, и 17-летний Шурка скоро уйдёт на фронт, как и другие мужчины Кельбенда. Тогда трудно было представить, что 35 односельчан не вернутся домой. Для деревушки с населением меньше пары сотен человек это будет огромной потерей.

Абрам-дя ушёл воевать после короткой службы в штабе армии; он отважно сражался на Западном фронте, получил звание капитана и стал комиссаром батальона. Мы получали от него письма и гордились его успехами. Храбрость и отвага всегда были частью его характера, хотя по жизни он был человеком весьма обидчивым и капризным. В середине войны Абрам был ранен и комиссован, но вернулся на фронт и впоследствии дошёл до Берлина. Был награждён орденом красной Звезды, и орденом Отечественной Войны II степени, медалями «За победу над Германией» и «За взятие Берлина».
Погос в начале войны поступил в училище для подготовки офицеров командного состава. Ему было присвоено звание младшего лейтенанта, и он уехал на фронт. В своём последнем письме Погос сообщал, что его отправляют в Сталинград. В те дни название города нам мало о чём говорило; никто не подозревал, что сталинградская мясорубка станет самой кровавой битвой в истории человечества. В конце 1942 или в начале 1943 года мы получили страшное извещение о том, что «мл. лейтенант командир взвода Погос Георгиевич Бабаян пропал без вести в сентябре 1942 г.».

Тянулись тяжёлые, беспросветные дни. Примерно через год мы получили такое же извещение о Шурке. «Красноармеец Александр Георгиевич Бабаян пропал без вести в октябре 1943 г.»… Мы знали, что Шурка воевал в Запорожском крае. От него мы успели получить несколько писем; он писал, что работает санитаром и выносит убитых и раненных с поля боя. Последнее дошедшее до нас письмо Шурка адресовал Манушак, жене брата Абрама. Письмо было датировано 13 июля 1943 г., и на обороте Шурка написал для Манушак пророческое четверостишье о своей гибели (дословный перевод с армянского):
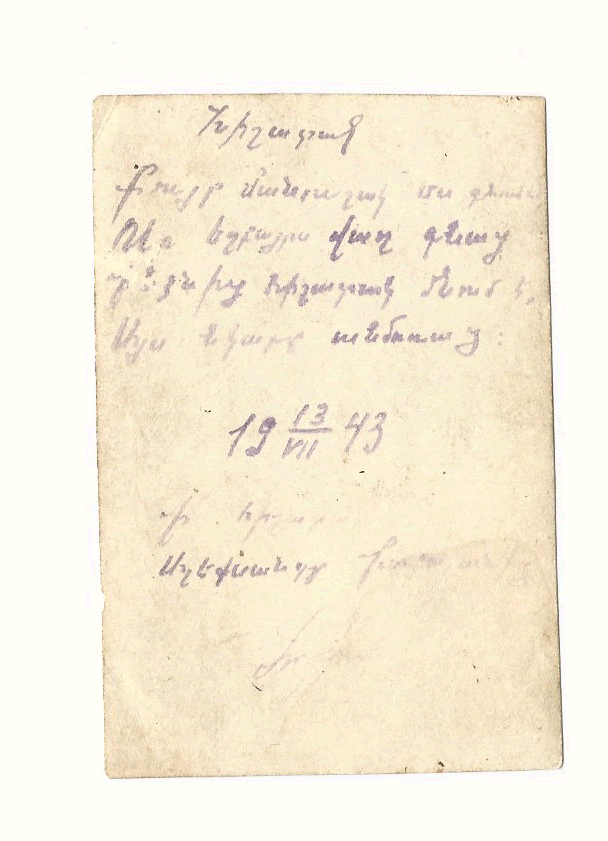
Сестра Манушак, я ухожу туда,
Куда уже ушёл мой брат,
Обо мне останется память,
Эта незабвенная фотография.
Мои родители долго отказывались верить в гибель сыновей. Несколько раз я наблюдал, как мама, стоя на коленях, шептала молитвы. Всё-таки формулировка «пропал без вести» оставляла какую-ту смутную надежду. Быть может, хохэнке (дети) попали в плен; или тяжело ранены и восстанавливаются где-то… когда-нибудь рано или поздно дадут о себе знать! Ну, хотя бы один из них вернётся… Увы, с такой надеждой жили миллионы.
Кельбенд погрузился в траур: повсюду из домов доносились причитания и плач. Из мужчин нашего рода погиб также Саркис Бабаян, сын Джавада (одного из семи сыновей Заргяр-бабы). До войны он работал парткомом совхоза, и эта должность странно сочеталась с его жизнерадостным озорным характером. Дядя Саркис был этаким деревенским балагуром: казалось, у него всегда припасена наготове какая-нибудь шутка на все случаи жизни. Он был отцом пятерых детей, и когда уходил на фронт, жена его Гоар была беременна шестым ребёнком. Этот ребёнок, Мартин Бабаян (Мартик), родился в 1942 г. и так никогда и не увидел отца. Тетя Гоарик вырастила шестерых детей одна, в голодные послевоенные годы.
Погиб и другой наш близкий родственник: Сетрак Хачатрян (муж Анкин-биби). Он был двоюродным братом моей мамы Шушан.
В те дни я заканчивал учёбу в 10-м классе в соседней деревне Ванашен. Жил я в Ванашене у родни: в доме Сатеник-биби, которая была внучкой Заргяра-бабы. По пятницам я пешком по горным тропам возвращался в Кельбенд, а утром в понедельник возвращался обратно в Ванашен, проходя путь в 14 км.
Манучар вернулся с фронта инвалидом: во время боя ему осколком раздробило кость левого локтя и предплечья, и рука безжизненно висела, хотя он мог слегка шевелить пальцами. Однако он не пал духом: смог как-то устроиться в городе, занялся торговлей и даже неплохо зарабатывал. После войны у него родились четверо детей: Алик, Сусанна, Жорик и Марина. Манучар обладал хорошим музыкальным слухом и любил петь; через несколько лет, когда я уже жил в Баку, мы нередко собирались с ним и братьями Ходжабекянами, – и он нам исполнял какую-нибудь песню своим сладким голосом.

После войны отец Кеворк захворал: часто жаловался на боли в животе, и у него также была сильно запущена грыжа. Визит к врачу он всё время откладывал на «потом» и продолжал работать, не жалея себя. Весной 1947 г. состояние отца резко ухудшилось, и д. Абрам приехал в деревню, чтобы забрать его в Баку. В то время наш дальний родственник Алексан (тоже Бабаян) работал начальником медсанчасти КГБ и МВД Азербайджана, был лечащим врачом Багирова. Осмотрев отца и обнаружив у него рак желудка в тяжёлой стадии, он покачал головой и сказал Абраму, что слишком поздно: вряд ли отец протянет больше недели. Так оно и случилось. Д.Абрам вернулся с отцом в Кельбенд, где тот и скончался 3 мая 1947 года.
За месяц до смерти, словно предчувствуя близкий конец, отец собрал всех кто был рядом, и принялся раздавать наставления. Мне он велел продолжать учёбу в Баку. Но после похорон отца, когда этот вопрос стал подниматься, я не захотел оставлять мать одну. Многое она пережила за последние годы, да и хозяйством было бы некому теперь заниматься.
Мою маму Шушан я называю Морем Доброты. Сколько она помогала соседям и родственникам в голодные военные годы! Не было в Кельбенде человека, кто не уважал и не любил бы её. За ней в деревне закрепилась репутация объективной и справедливой миротворицы. Когда в какой-то семье происходила ссора, люди шли к маме за решением. Она внимательно выслушивала обе стороны и объявляла кто «виноват» (иногда виновными оказывались оба). За это качество деревенские любовно прозвали маму «прокурором».

После кончины отца в нашем деревенском доме некоторое время жили только мама, мы с Ханум и Пити Нана, которой было за 100; но затем брат Абрам решил переехать с семьёй в Кельбенд. После войны у него родился второй сын, Вачик, а через год ещё родится Дима. Абрам-дя с мамой напомнили мне волю отца и уговорили продолжать учёбу в столице. Я уехал в Баку, и поступил в 10-ый класс повторно, чтобы получить городской диплом. В те годы многие покидали деревню и уезжали в Баку, Кельбенд постепенно обезлюдевал.
Абрам-дя пробыл в Кельбенде больше года. Помимо домашнего хозяйства, он занимался здесь ремонтом часов, каких-то деталей и охотничьих ружей. Деревенские постоянно приносили ему что-то на починку. Прослышав об этом, к нему стали приезжать даже жители соседних деревень, привозя с собой неисправные винтовки. Этим ремеслом Абрам занимался и в городе, и впоследствии опять в деревне, когда окончательно вернулся сюда спустя десятилетия.
В 1948 году Ханум вышла замуж за сына бывшего друга отца Кеворка. Этот короткий, несчастный брак без любви продлился около года. Ханум забеременела и ожидала близнецов-мальчиков. Но роды оказались тяжёлыми, и близнецов не смогли спасти. Сама Ханум чудом избежала смерти и пролежала несколько месяцев в больнице; за это время «муж» даже не разу не навестил её. Сразу после выздоровления оформили развод, и мы с Ханум стали жили вместе в доме Абрама на 4-ой Свердловской. (Позже мы приобрели две маленькие комнатушки на 7-ой Свердловской.) Впоследствии Ханум поступила в торгово-экономический институт и выучилась на бухгалтера.
На той же 4-ой Свердловской жили тогда моя сестра Лиза и Мартирос-даи с сыновьями, а также другие наши родственники: д.Атанес и т.Варя, т.Гоарик, т.Люся (мать Дунары Хаджабекян), Амирджановы… Жили в тесноте, но дружно, весело, помогая друг другу кто как мог. И хотя меня сильно тянуло в Кельбенд, эта взаимовыручка и дружба близких людей помогала скрасить непривычную жизнь в городских условиях.

Дядя Мартирос работал тогда в посёлке Сабунчи заместителем директора торгового центра. Меня он очень любил; как только видел меня, лицо сразу расплывалось в добродушной улыбке. Он тепло обнимал меня и расспрашивал о разных делах. Я несколько раз ездил к нему на работу в Сабунчи. Помню, что стояли жаркие дни, и как только я входил к нему в кабинет, он тут же распоряжался чтобы мне приносили мороженое; а затем ещё отправлял со мной кое-какие продукты для дома. Но через год случилось несчастье: возвращаясь с работы домой на электричке, ему вдруг стало плохо с сердцем, и он скончался не доехав до города. Тот вечер я проводил с Ходжабекянами, и когда нам сообщили о происшедшем, мы вчетвером – Вачик, Миша, Вова и я, побежали на вокзал, и несли затем безжизненное тело Мартироса-даи на своих плечах до самого дома…
Овдовев, Лиза уехала в Кельбенд. О моей старшей сестре я всегда вспоминаю с большой теплотой. Все нравственные качества, позитивные черты личности каким-то уникальным способом сочетались в её характере. Трудолюбивая, щедрая, совестливая, мудрая, любящая… Всё успевала, всем угождала. Как мне кажется, наш отцовский дом вновь обрёл второе дыхание после её возвращения.
Как-то я приехал в Кельбенд навестить их с мамой (приезжал на день или два почти каждый месяц), и молодой односельчанин Худунц Жора рассказал мне свою историю, связанную с Лизой. В конце войны он получил тяжёлое ранение ноги и был комиссован; по дороге в деревню он заехал в дом, где жили тогда Лиза и Мартирос. Осмотрев ногу, Лиза сказала, что не отпустит Жору в деревню, так как там некому будет за ним ухаживать. Жора возражал, но Лиза настояла, и в итоге, он задержался почти на 3 месяца, уехав когда нога полностью зажила. «Никогда не забуду её отношения, – с чувством повторял Жора, – это невозможно забыть… Она ухаживала за мной как родная мать!»
Можно привести десятки других примеров её великодушия и щедрости… Лиза постоянно колесила между Кельбендом и Баку, работая летом в деревне, зимой помогая сыновьям; – полная энергии и силы. В деревне многие сельчане захаживали к нам, зная что Лиза-биби никого и никогда не отпустит без угощения. Из плодов тутовника она варила бекмез (дошаб), и гнала целебную, в 70 градусов, тутовку, которую затем всем щедро раздавала.
Прошли годы… После службы в армии я как-то гулял с друзьями по деревне, и наше внимание привлёк шум во дворе Кясунц Мисака. Войдя, мы увидели как несколько человек пытаются безуспешно справиться с молодым ослом, из ноги которого хлестала кровь. Оказывается, прыткий осёл заскочил в огород, и растоптал свежую рассаду. Нервный Мисак, пытаясь прогнать животное, вышел из себя, и ударил его по ноге своим тесаком. Раненного осла поймали, но никак не могли уложить на землю чтобы сделать перевязку. Рядом сгрудилась группа девочек-подростков и наблюдала за происходящим.
Я тут же вспомнил, как подобную процедуру проделывал с нашей лошадью отец. Он обхватывал коня, и прижимая особым способом к себе, хватал за ноги и ловким движением переворачивал и укладывал на землю. Я попросил сельчан раступиться, и подойдя к ослу в одиночку, без труда повторил старый приём отца и уложил животное. Девчонки с восхищением захлопали в ладоши. Среди них находилась стройная красавица Лизок, которая годы спустя призналась, что я в тот момент произвёл на неё сильное впечатление. Мы с ней поженимся в 1960 году.
Отец Лизок, Вартан Петросович Шаграманян (Шагирманов) пользовался большим уважением не только в деревне, но и во всём районе. Мой будущий тесть был вдумчивым, рассудительным человеком с организаторскими способностями. В 50-е годы он занимал важную партийную должность в Исмаиллинском районе, а затем его назначили председателем совхоза в Кельбенде. Д.Вартан (Вартан-даи) какими-то дальними родственными узами был связан с нашим родом, и хорошо знал моего отца.

Детство Вартана-даи было очень тяжёлым; он прошёл через все ужасы резни, сиротства и голода. Родился в многодетной семье, но отца-священника убили, когда ему было 6 лет; а мать и другие дети кроме старшей сестры, умерли от голода и тифа. Во время бегства из деревни, сестра и Вартан присоединились к поезду который вёз беженцев в Баку. В пути у сестры начался сильный жар. Где-то в пути поезд остановился, и Вартан побежал на станцию в поисках воды. Но когда он вернулся, то уже не смог найти своего поезда. Долго плача, мальчик бродил по рельсам, и скитался несколько дней, пока его не подобрала какая-то сердобольная душа. В конце концов он всё же оказался в Баку; его сдали в детский приют. Годы спустя Вартан благодаря случаю встретился с сестрой и родственниками, которые возвратили его в уже мирный Кельбенд.

Моя будущая теща Ашхен была боевой и даже отчаянной женщиной. Однажды на деревенской свадьбе она при всех отвесила пощёчину пьяному односельчанину, который перебрал лишнего. Т.Ашхен легко осваивала мужские профессии, и ходили слухи, что она умела управлять автомобилем – что звучало немыслимо для женщин того времени. Кроме моей Лизы, в семье Вардана-даи и тёти Ашхен росли ещё сестра Эльвира и сын Яшар. В какой-то момент я незаметно для себя стал восприниматься в этой славной семье как потенциальный жених Лизок. Однажды они всей семьей зашли к нам навестить Шушан-биби, а я в это время в одной майке работал во дворе. Увидев гостей, я спешно накинул на себя рубашку, – и поймал на себе одобрительный взгляд Вардана-даи. Мой будуший тесть всегда и во всём любил порядок, и уважал людей соблюдавших приличия.
В 1957 году я затеял полную перестройку нашего отцовского дома. Я отправил из Баку в Кельбенд необходимые стройматериалы; а непосредственное строительство оперативно осуществил мой двоюродный брат Ваго – младший сын Софии-биби. Здесь я должен также с большой теплотой упомянуть о старшем брате Ваго, Аршаке, человеке добродушном, с необыкновенным чувством юмора. Он долгие годы работал начальником КГБ в Казахстане. Аршак имел обыкновение сочинять разные забавные истории и рассказывать их с такой достоверностью, как будто они реально случились в жизни. Слушая его, никто не мог удержаться от смеха.
Мы с Лизой обручились в 1958 году. Но свадьбу, которая должна была состояться осенью, пришлось отложить почти на целых два года, по причине неожиданной смерти Манучара. Он заболел и был помещён на обследование в больницу Семашко, где ему, как выяснилось позже, поставили неверный диагноз. Через несколько дней Манучар позвонил мне и попросил забрать его домой. Но когда мы за ним приехали, он был уже мёртв. Оказывается, он несколько раз спускался с 4-го этажа на первый, чтобы позвонить, и ему стало вдруг плохо с сердцем.
В 1961 году у нас с Лизой родился первенец Юра, а ещё через полтора года – дочь Ира. К тому времени я уже окончил техникум и институт, и начинал свою служебную карьеру в органах МВД республики. Впоследствии я стану начальником ГАИ Азизбековского района Азербайджана; но события, связанные с моей служебной жизнью заслуживают, наверное, отдельных воспоминаний. Безусловно, можно рассказать немало увлекательного и интересного, но не стану отвлекаться. Эти строки посвящены только селу Кельбенд и близким мне людям.

Постепенно с течением времени мы, кельбендецик, становились «городскими»; родные края мы посещали всё реже. Кельбенд превращался в дачное место, куда мы возили наших детей на лето во время детских каникул. Но мне было приятно видеть, как рвутся в Кельбенд мои дети, – поездка в деревню означала для них весёлые летние приключения, и радостное общение с близкими: детьми Миши и Дунары, Вовы и Любы, внуками Абрама… Я был рад, что дети нашей родни так же дружны между собой, как и мы были дружны в детстве и юности. Летними завсегдатаями деревни в 1960-е и 1970-е годы были мы с Лизой, братья Ходжабекяны, дети Абрама, – для всех нас это были тёплые, незабываемые времена, которые вспоминаются сегодня как далёкий и сладостный сон.

В 1968 году по моей инициативе и поддержке, во дворе деревенской школы был установлен памятник погибшим героям села Кельбенд. Деньги на него собирали всем селом. 9 мая состоялось торжественное открытие памятника. На белом мраморном памятнике с красной звездой были выбиты имена 35 сельчан, отдавших свои жизни; среди них – имена моих братьев, Погоса и Шурки.
Мою идею памятника всем сердцем поддерживала мама Шушан. К сожалению, к моменту открытия монумента она уже находилась в тяжёлом состоянии. Мама давно болела, и за несколько месяцев до этого у неё случился инсульт. Я забрал её в Баку на лечение, но врачи ничем не смогли помочь. Мы возвратились в Кельбенд, и я повез её, уже безнадёжно больную, показать памятник с именами её сыновей. Мама скончалась в июне того же года.
4 года спустя, 9 мая 1972 года, в Кельбенде был проведён торжественный митинг посвящённый Дню Победы. После митинга у памятника мы, – Бабаяны и Ходжабекяны, – организовали в нашем дворе большой праздничный обед, на который была приглашена вся деревня. Приехали также гости из других армянских сёл.

В эти же годы, мы с Гришей (Григорий Агабекович Аристакесян, отставной полковник, за которого в предыдущем году вышла замуж Ханум) предприняли немало усилий по поиску захоронений моих погибших братьев. После нескольких писем и запросов, нам сообщили, что Шурка захоронен в братской могиле недалеко от села Люблянск Запорожской области. Вскоре мы впятером: Лиза-биби, Абрам-дя, Ханум, Миша Хаджабекян и я полетели в Запорожье, и добирались затем от аэропорта до этого села ещё 125 км. Местные жители очень радушно встретили нас. На большом камне были высечены звезда, ветвь, и имена около сотни солдат… имя Шурки – четырнадцатая строчка сверху. В последующие годы мы с Абрамом ещё дважды приезжали сюда.

Сведений о Погосе мы долгое время не могли найти. Некоторое время спустя, отдыхая в санатории, я встретил одного человека, начальника Ремонтно-Строительного Управления Волгоградской области. Мы разговорились, и узнав о Погосе, он пригласил меня в гости, добавив, что хорошо знаком со всеми братскими могилами области. Мы с Лизой полетели в Волгоград, где этот любезный человек забронировал для нас гостиницу. Утром следующего дням он на своём автомобиле повёз нас по братским могилам, и мы весь день тщетно искали следы Погоса. Под вечер, однако, нам показали новый кинотеатр, – и рассказали, что во время его строительства экскаватор наткнулся на захоронение неопознанных солдат – около 5000 человек. Кто знает, не в их ли числе мой брат Погос?

В сентябре 1978 года после тяжёлой болезни умерла моя тёща т. Ашхен. На похороны приехало много людей из Кельбенда. Лиза-биби, принимавшая активное участие в похоронах, щедро позаботилась о каждом приехавшем. Никто в тот момент не знал, как мало осталось ей самой, столь жизнедеятельной и энергичной… В тот вечер после похорон Лиза-биби ночевала у меня в квартире, и они спали на одной кровати с Лизой (моей женой). Как вспоминает Лиза, Лизи-биби вдруг стала жаловаться на своё резкое похудание, показав как отвисла кожа на руках. И пророчески добавила, что очень скоро умрёт; не протянет, наверное, и шести месяцев. Мы скоро начнём возить её по врачам и узнаем, что у неё уже сильно прогрессировал рак желудка…
Умерла в феврале 1979 года. Похороны на 4-й Свердловской были очень многолюдными. С каждой новой смертью от нас уходила целая эпоха, история села Кельбенд и нашей семьи… Увы, самому селу Кельбенд, как и другим армянским сёлам Исмаиллинского района, судьбой было отмерено меньше 10 лет существования.
В 80-ые годы в нашем опустевшем деревенском доме годы постоянно жили Абрам-дя и Манушак. Регулярно продолжали приезжать мы с Лизой и детьми, но уже ненадолго, – как правило, всего на несколько дней. (Летнее время мы теперь большей частью проводили на даче недалеко от пос. Мардакяны в 35 км от Баку.) В этот период чаще оставались отдыхать в Кельбенде внуки Абрама – дети Илюши и Нелли. Муж Нелли, Роберт, будучи человеком мастеровым, с золотыми руками, часто помогал Абраму по дому и хозяйству. На протяжении 80-х, Абрам-дя время от времени затевал какие-то проекты по улучшению дома и двора, и я снабжал его стройматериалами из города, оплачивал труд рабочих, и т.д. Кто знал тогда, что очень скоро придётся навсегда покинуть Кельбенд и отчий дом?

В конце 1987 г. вспыхнул карабахский конфликт. В феврале 1988 г. произошли страшные сумгаитские события, и очень скоро стало очевидным, что армянское население Азербайджана обречено. Напряжение стало возрастать и в Баку; армяне постепенно покидали город и рассеивались по миру. В ноябре я с семьёй уехал в Армению и приобрёл дом в Ереване. В этот период ситуация в Азербайджане ещё находилась под контролем правительства и партийных органов. Несмотря на открытую вражду и противостояние, многие армяне возвращались в Баку: кто с целью продажи квартир и имущества, кто за вещами или документами. Несколько раз возвращался в Баку и я: однажды с Юрой, затем один, и наконец, в последний раз в декабре 1989-го, угодив через месяц в самый водоворот ужасающих январских погромов.
Армянский Кельбенд прекратил своё существование. В ноябре-декабре 1988-го была проведена быстрая организованная депортация всех армянских сёл Исмаиллинского района. Абрам-дя и Манушак в числе тысяч беженцев были посажены на грузовики и автобусы, и вывезены на азербайджано-армянскую границу. Их расселили в бывшем азербайджанском селении Полад Иджеванского района, так как сходный процесс депортации азербайджанцев теперь происходил и в Армении. Я в этот момент вернулся в Ереван, и случайно узнав от кого-то о происшедшем, тотчас отправился на поиски брата вместе с Робиком, мужем Нелли. Однако по дороге в Иджеван нас развернули обратно: дело было 7 декабря, несколько часов назад произошло страшное землятресение. Армения погрузилась в неописуемый хаос: повсюду плач, разрушения, неразбериха… Но Абрама с Маней мы с Робиком всё равно через несколько дней нашли живыми и здоровыми, и успокоились хотя бы за них.
Летом 1989-го я опять полетел в Баку. Напряжение в городе внешне спало; я встречал много армян, пыташихся продать свои квартиры или найти «товарищей по несчастью» в лице азербайджанцев из Армении, – с целью обменять с ними жильё. Нашей квартирой в Монтино заинтересовался мой старый приятель Мамедов, брат которого занимал высокую должность в Наримановском районе. Но деньги он обещал выплатить через несколько месяцев, поближе к зиме. Я согласился подождать.
В это время я собрался в Кельбенд, чтобы в последний раз взглянуть на отчий дом, и встретить нового владельца. По имевшейся у меня информации, заселившийся к нам азербайджанец оставил в селе Ильмязлы Калининского района Армении свой собственный дом, и ему необходимо было легализовать обмен. Поскольку наш кельбендский дом всегда был официально оформлен на двух владельцев (Абрама и меня), он хотел встретиться со мной чтобы передать мне документы на свой дом в Ильмязлы, и соответственно – переоформить на себя наш кельбендский.
Летом 1989-го я с тяжёлым сердцем поехал в Исмаиллы. Путешествовать уже было далеко небезопасно, и я обратился за помощью к своему приятелю из районного Управления ГАИ. Тот согласился помочь и повёз меня в Кельбенд на своей служебной машине. Наверное, мне суждено было стать последним армянином, который увидит осиротелый Кельбенд без армян, своих исконных жителей.
Когда я вошёл в наш двор в сопровождении майора милиции, новый хозяин выглядел немного испуганным, и мне пришлось успокаивать его. Мы вместе съездили в район и оформили документы, а затем вернулись в пустой, печальный Кельбенд.
Я прошёлся с новым владельцем по двору. Похоже, наш роскошный фруктовый сад не особенно впечатлял его, поскольку в своей бывшей деревне азербайджанец привык выращивать, в основном, помидоры. Затем, когда мы подошли к моему любимому ореховому дереву, он вдруг заявил о своём намерении срубить его; и заодно избавиться от соседнего векового тутового дерева, – огромного, красивого, сладчайшие плоды которого до сих пор вспоминают мои дети… На месте этих высоких, раскидистых деревьев азербайджанец планировать разбить огородные грядки.
Хотя это было уже не моим делом, но я не сдержался и в резких выражениях выразил ему своё мнение по поводу столь глупого, на мой взгляд, решения. На нашей огромной территории было достаточно места для разбивки нового огорода, хотя имелся и старый, – довольно обширный. Уничтожать же деревья, приносящие столь внушительный стабильный урожай вкуснейших грецких орехов, и особенно медовой шелковицы (царь-дерево, источник долголетия), – я считал настояшим преступлением. Но если посмотреть с другой стороны… это ведь только для меня каждый сантиметр нашего двора был связан с дорогими сердцу воспоминаниями. Вот в этом сарайчике работал отец Кеворк; вот под этим тутовником величаво, словно царица, восседала моя мама Шушан; вот здесь перед домом весело носились мои дети… А для нового владельца-азербайджанца наш двор был просто безличной собственностью, которую он теперь вправе переделывать по своему вкусу. Ведь схожее равнодушие я впоследствии проявил по отношению к приобретенному домику этого азербайджанца в Калининском районе (который я в 1991 году просто подарил семье своего кироваканского приятеля, в ответ на доброту и заботу о Ханум и Грише).
Навсегда простившись с Кельбендом, я вернулся в Ереван. Армения в тот период жила тяжелейшей блокадной жизнью, – всё ещё восстанавливаясь после землятресения, наводнённая беженцами и испытывавшая перебои с хлебом, топливом и электричеством. И хотя наша семья ни в чём особо не нуждалась (в какой-то момент в нашем доме дружно проживало до 18 родственников), общая обстановка в республике угнетала. В декабре в Москву на месяц командировали моего сына Юру, работавшего в ереванской таможне; а мы со свояком Аркадием готовились выехать в Баку. Как официально сообщали центральные СМИ, ситуация в Азербайджане нормализовалась. Аркадий надеялся продать или обменять свою четырёх-комнатную квартиру в Ахмедлах. Мне также нужно было продать нашу квартиру и помочь с отправкой вещей Ханум, которая вместе с Гришей находилась в тот момент в Баку. Учитывая мои связи в милиции и различных учреждениях, у меня в этом плане были в Баку некоторые возможности.
В те декабрьские дни в Баку ещё продолжали жить мой тесть Вартан-даи и его вторая жена, т.Аня. Они паковали вещи и готовились ехать в Армению вместе с нами. Но когда мы с Аркадей уже собирались в путь, вдруг позвонила т.Аня и сообщила о внезапной кончине Вартана-даи. Мы с Аркадей немедленно выехали в Грузию, и оттуда в Баку, – так как прямой воздушной связи между друмя враждующими республиками уже не было.

Коммунист с 50-летним стажем, д.Вартан свято верил в скорую нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией. Будучи не в состоянии принять и понять происходящее, он терпеливо ждал пока восстановится порядок, и долго отказывался покидать Баку. Несколько месяцев назад он даже получил письмо из всё еще действовавшего райкома партии с обещанием вручить ему награду – нагрудный знак «50 лет пребывания в КПСС» с предоставлением каких-то особых привилегий. Но время текло, награду так и не вручили, а вражда в городе становилась неприкрытой. Двух соседей-армян во дворе д.Вартана на улице лейт. Шмидта зверски избили; раны одного из них оказались смертельными. Все эти события удручающе подействовали на моего больного тестя. В последнее время Вартан-даи жаловался на сильные боли в спине, а утром следующего дня ему стало совсем плохо. т.Аня обнаружила на кровати следы крови и вызвала скорую. Тестя забрали в больницу, где он умер через несколько часов.
Прибыв в Баку, я тут же связался с бывшими сослуживцами-азербайджанцами: без их помощи было немыслимо организовать похороны тестя. Никакой «нормализацией» не пахло. Обстановка в городе становилась взрывоопасной, и армянам некоторых районов рискованно было передвигаться по городу. Народный Фронт уже обретал сильное влияние, постепенно захватывая власть. Какие-то группы кое-где маршировали по улицам, выкрикивая антиармянские лозунги.
Мои бывшие коллеги нам в итоге очень помогли. Также сильно благодарен за помощь Изику (другу Яшара, сына Вартана-даи). Мы с Изиком и Аркадием, и Гриша с Ханум, через несколько дней похоронили Вартана-даи на армянском кладбище.
Но нам пришлось задержаться в Баку ещё почти на целый месяц… Сосед Аркадия обещал купить его квартиру, и Аркадий терпеливо ждал. Григорий Агабекович, подобно моему тестю, был интеллигентнейшим старым коммунистом и ветераном войны; он наивно верил в «нормализацию» ситуации, уверял что скоро всё снова станет «хорошо». Они с Ханум собирали свои вещи для отправки в Армению. Четырёхкомнатная квартира Гриши, – удобная, просторная, с высокими потолками, – продаже не подлежала, так как находилась в специальном военном доме и была выделена ему как ветерану войны на особых условиях.
Я тоже возился дома с вещами, так как уже договорился через знакомых об отправке контейнера в Грузию. Приятель Мамедов, который условился со мной о покупке квартиры, обещал выплатить деньги в течение недели.
В нашем трёх-блочном доме было 45 квартир, в 42 из которых раньше жили армяне. Но в те дни уже почти никого не осталось. Обе соседские квартиры на нашем этаже были заняты азербайджанскими семьями. Мамедов предусмотрительно убрал с моей двери табличу с надписью «Бабаян А.Г.», и предупредил соседей, что у квартиры теперь новый владелец – азербайджанец. Так прошло пару недель, и мы вступили в страшный январь 1990 года.
Нескончаемые теперь митинги носили как антиармянский, так и антиправительственный характер. Говоря по телефону с родными, мы старались их не беспокоить, и бодро уверяли что в Баку «спокойно», – но слухи о нарастающем напряжении уже просочились в Армению. Лиза и дети стали настойчиво требовать, чтобы мы немедленно покинули Баку, – но честно говоря, мы уже не знали как это сделать. В последние несколько дней активисты Народного Фронта пикетировали все вокзалы, пригородные трассы и основные магистрали, досматривая всех пассажиров. Десятки тысяч армян оказались запертыми в родной ловушке; многие надеялись теперь просто переждать, авось всё скоро каким-то образом утихнет.
За несколько дней до начала кровавой вакханалии, я ждал в своей квартире Мамедова, который обещал привезти деньги. После этого я собирался поехать к т.Ане, которая должна была закончить сбор своего скарба, и перевезти её к Ханум с Гришей. Их квартиру в военном доме на улице Бакиханова напротив гостиницы «Нахичеван» я считал более безопасной. К тому же в этом районе начальником РОВД работал мой старый товарищ, на помощь которого я рассчитывал.
Но Мамедов всё не появлялся, и не отвечал на звонки. Я прождал его почти два часа, и потеряв терпение, собрался было уходить, как вдруг из подъезда донёсся сильный шум. Это была группа погромщиков, которые стучали во все двери, разыскивая армян. Бросив быстрый взгляд в окно, я увидел несколько человек и бортовую автомашину, наполовину загруженную разным добром.
В мою дверь начали звонить и стучать, бить ногами, грубые голоса кричали:
– Армяне, открывайте! А то плохо будет! Сейчас сломаем дверь!
Приготовившись к самому худшему, я сжал в руке маленький кухонный топорик… Но тут услышал голос соседки, которая стала убеждать погромщиков не ломать дверь, «так как армян здесь уже нет, квартира недавно куплена азербайджанцем». Это спасло меня; погромщики поверили и ушли грабить другую квартиру. У них явно был список ещё непроданных армянских квартир. Я осторожно наблюдал через окно, как они через некоторое время притащили откуда-то телевизор, несколько коробок и ещё какое-то добро. Прождав почти час, и убедившись что бандиты наконец, уехали, я оделся, и выйдя на улицу, поймал такси.
– Бабаян, сян-сян? – вдруг изумленно воскликнул таксист. – Ты здесь, в такое время?!
Оказалось, это был таксист из 1-го таксомоторного парка, который хорошо знал меня. После увольнения с поста начальника ГАИ Азизбековского района, я некоторое время работал начальником службы безопасности Гостранспорта, и обслуживал этот парк. Таксист довёз меня до дома т.Ани, помог загрузить всё необходимое, и затем повёз нас на улицу Бакиханова, – в итоге наотрез отказавшись взять с меня деньги. Гриша, Ханум и Аркадий давно ждали нас с нетерпением и тревогой. Гриша был бледен: он совершал утром покупки в магазине, и его оскорбляли, требовали убраться из города, чуть не избили.
В квартире у Гриши мы безвылазно просидели все последующие дни. Мой товарищ, начальник РОВД велел нам не высовываться; и даже несколько раз отправлял к нашему дому патрульную машину на случай если явятся погромщики. Но когда 13 января повсеместно начались кровавые погромы, зверские убийства армян, поджоги и грабежи, он позвонил и сказал, что больше не в состоянии гарантировать нашу безопасность.
Ещё пара ужасных дней, и он отправит за нами машину. Далее будет кинотеатр «Шафаг», битком набитый раненными, избитыми, измученными армянами… Затем жуткая перевозка к парому, где мы чуть не потеряли Ханум и т.Аню… И наконец, давка на пути к последнему парому в Красноводск, ужасающий холод в пути, стоны раненых, леденящие душу подробности рассказов выживших…
………………………………..
На этом я хочу остановиться. Кельбенд и Баку канут в лету, после того как уйдут последние из поколения помнящих их людей. Проходят годы, время залечивает потери, но покидают мир люди, связанные с детством, юностью, с нашим селом Кельбенд…
В 1992 году умер в своём новом поселении Абрам-дя. Немного спустя умрёт жена Абрама, наша добрая Манушак, и их сыновья: Илюша и молодой совсем Дима. Затем уйдут от нас братья Ходжабекяны: Миша в конце 90-х и Вачик в начале 2000-х – в Москве; Вова – годы спустя в Америке. Уйдут и десятки других близких, дорогих людей, о которых не упоминается здесь, но которые заслуживают каждый отдельной книги. И это не преувеличение. Светлая всем память.
Судьба в конце века унесёт нас в США, где мы увидимся с т.Кнарик, женой Манучара. Лиза и Ханум были дружны с этой замечательной женщиной, и в 2002 году у нас состоится радостная встреча в Калифорнии, на свадьбе её внучки. Кнарик с любовью называли «всесоюзной бабушкой». Она умрёт в 2012 году.

Моя сестра Ханум покинула нас всего два месяца назад, после тяжёлой болезни. Её жизнь – пример преданного, поистине жертвенного служения семье… она всегда отдавала всю себя без остатка. Мы похоронили её на центральном историческом кладбище Денвера. Удивительно видеть, как всё больше на памятниках этого кладбища появляется армянских фамилий; и всё чаще на русском языке – указание на бакинцев, на наши далёкие края…

Пока мы живы, воспоминания останутся в наших сердцах. Взявшись за перо, мне хотелось каким-то способом отдать долг моей маленькой родине, дорогому моему сердцу селу Кельбенд. И прежде всего, его бывшим жителям, о которых вспоминаю теперь с большой и особенной теплотой. Многих уже давно нет в живых, но их жизнь продолжается в детях и внуках, рассеянных по миру. Да хранит всех Бог.
Александр Бабаян. Аврора, Колорадо – май 2019 года
